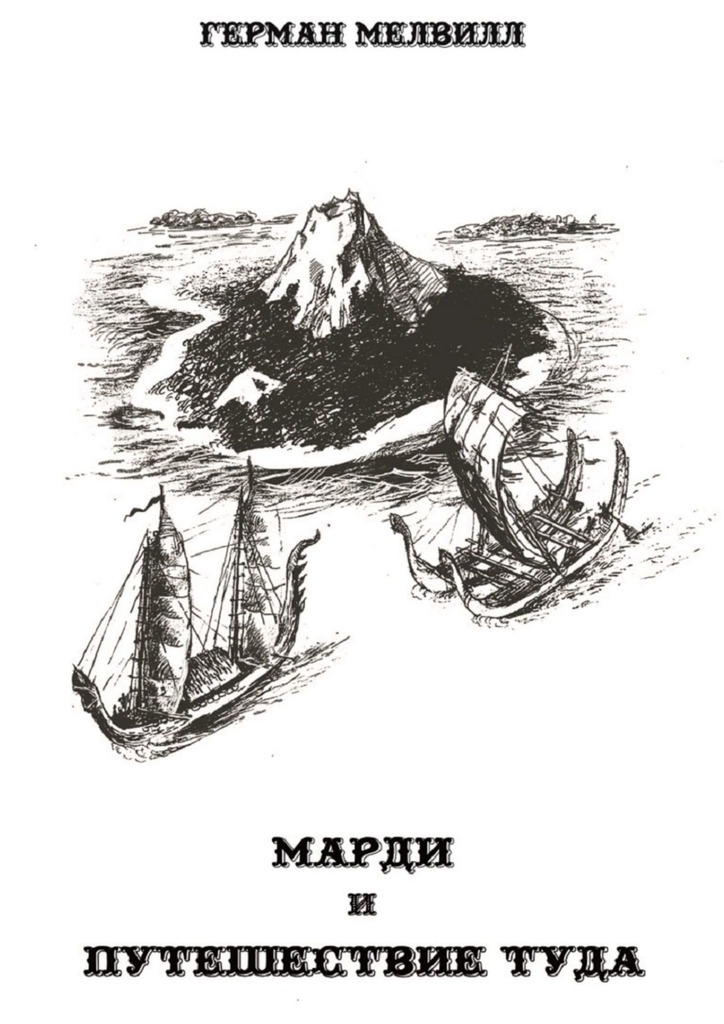до небес, поразился бы земляным холмам и окружившим всё кругом валам из наших материалов. Какая простая пирамида! В этой великой тишине, в которую столь интенсивно проникла эта устремлённая масса, – могли бы постоянно трудиться десять тысяч рабов? Могли бы стучать десять тысяч молотов? Там она стоит – часть Марди, требующая родства с горами; эта вещь была построена по частям? Это так. По частям? Атом за атомом она была выложена. Мир был создан из мелочей»».
ИУМИ (в размышлении): «И это так».
АБРАЗЗА: «Ломбардо серьёзно относился к критикам, как и они к нему; это так, будьте уверены».
БАББАЛАНЬЯ: «Ваше Высочество, Ломбардо никогда не предполагал критиковать истинного критика, который встречается реже, чем истинные поэты. Великий критик – султан среди сатрапов, но претенденты на этот трон жирны, как муравьи, стремящиеся измерить пальму, вкусив её ароматной сладости. И они дерутся друг с другом. Пытающиеся ущипнуть орлов, они сами – гуси в острых перьях, которыми они друг друга и колют».
АБРАЗЗА (к Медиа): «Оро помогает жертве, которая падает Баббаланье в руки!»
МЕДИА: «Да, мой господин; время от времени каждый его палец – кинжал, каждая мысль – как упавшая башня, что погребает под собою всё! Но резюме, философ, – что с Ломбардо теперь?»
БАББАЛАНЬЯ: «Из-за этой вещи, – сказал он, – я достаточно промучился… Я не могу ожидать большего. У неё есть ошибки – весь ствол… все его достоинства – его собственные… но я больше не могу трудиться. Существование связывает меня, заклинаю; моё сердце переполнено, мой мозг болен. Позвольте уйти – позвольте этому уйти – и вместе с Оро. Где-нибудь в Марди есть могучее сердце… которое… разорвавшись, наполнит эхом все острова!»
АБРАЗЗА: «Бедняга! Он слишком тяжело добыл славу».
МЕДИА: «Как и большинство этих смертных, мой господин. Это – самостоятельно взятый груз, под которым шатается Баббаланья. Но теперь, философ, перед Марди предстало то, о чём думал Ломбардо в своей работе, смотря на неё объективно, как на вещь, существующую вне его, как я полагаю».
АБРАЗЗА: «Без сомнения, он охватывал её». БАББАЛАНЬЯ: «Трудно ответить. Иногда, будучи один, он много думал, как говорит мой господин Абразза; но когда он выходил и оказывался среди людей, он почти презирал её; но когда он напоминал себе о тех частях, написанных исполненными очами, наполовину ослеплёнными, с пульсирующими висками и болью в сердце…»
АБРАЗЗА: «Фу! Фу!»
БАББАЛАНЬЯ: «Он мог бы сказать себе: „Несомненно, это не может быть напрасным!“ И снова, когда он напоминал себе о спешке и суматохе Марди, уныние брало верх над ним. „Кому это будет нужно, – думал он, – что от меня нужно этим щёголям и скандалистам? Не сам ли я отъявленный хлыщ? Кто прочитает меня? Перескажет одну тысячу страниц – двадцать пять строк на каждой – каждая строка из десяти слов – каждое слово из десяти букв. Это два миллиона пятьсот тысяч А, и И, и О надо прочитать! Как много лишнего! Разве я не безумен, обременяя Марди такой задачей? Из всех людей я оказался самым мудрым, чтобы стоять на возвышении и преподавать толпе? Ах, моя собственная Козтанца! Дитя многих молитв! Та, в чьих серьёзных глазах, таких бездонных, я вижу свои собственные и вспоминаю все прошлые восхищения и тихие муки, – ты появилась, как ребёнок некоего любящего, выжившего из ума старика: прекрасного для меня, отвратительного для Марди! И полагаю, что всё достоинство рабского труда состоит в том, что ты не умираешь; и если труд не напрягает, то может продлиться достаточно долго, до высокой награды в виде бессмертия. Всё же бессмертные произведения написаны, и такими же людьми, как я, – людьми, которые спали и пробудились, и поели, и заговорили на том же языке, как мой. Ах, Оро! Как можем мы знать, кем бы мы были? В чём проявляется печать или отпечаток гениальности, очевидные для их обладателей? Есть у него глаза, чтобы увидеть себя, или он слеп? Или мы вводим себя в заблуждение тем, что хотим стать богами, и заканчиваем личинками? Гений, гений? Тысяча лет прошла, чтоб это слово стало домашним? Я? Ломбардо? Но вчера оно сократилось до именования яркого дурака! Бессмертный Ломбардо? Ха, ха, Ломбардо! Но твоё искусство – это осёл с широкими ушами, задевающими вершины пальм! Ха, ха, ха! Полагаю, я вижу тебя бессмертным!“ Так говорит великий Ломбардо; и так, и так, и так – так говорит он – прославленный Ломбардо! Ломбардо, наш великий соотечественник! Ломбардо, принц поэтов – Ломбардо! Великий Ломбардо! Ха, ха, ха! Пойди, пойди! Вырой себе могилу и похорони себя!»
АБРАЗЗА: «Он теперь время от времени бывает очень забавен».
БАББАЛАНЬЯ: «Очень забавен, Ваше Высочество, удивительно весел! И самими глубинами моей души, созданной Оро, нельзя не почувствовать хотя бы одного прикосновения этой весёлой драмы! Это ужаснуло бы вас, моего державного богоподобного господина Абраззу!»
АБРАЗЗА (к Медиа): «Мой дорогой господин, его зубы удивительно белы и остры: у некоторых акул такие же; он часто так усмехается? Просто по-дьявольски!»
МЕДИА: «Ах! Это – Аззагедди. Но прошу, Баббаланья, продолжай».
БАББАЛАНЬЯ: «Ваше Высочество, даже в своих более спокойных критических капризах Ломбардо был далёк от представления о своей работе. Он признавался, что она всегда казалась ему неплохой небрежно написанной копией чего-то, которую он, что бы ни делал, не мог полностью изменить. „Мой холст был маленьким, – сказал он, – была вытеснена масса вещей, которые находились по краям. Но в этом и заключена Судьба“. И Судьба эта была такой, Ваше Высочество, что вынудила Ломбардо к тому, чтобы, как только его работа была хорошо сделана, снять её с мольберта и послать на размножение. „О, пусть я так и не был награждён! – кричал он. – Но, как многие другие, в самом раннем своём детстве этот мой бедный ребёнок должен пойти к Марди и получить хлеб для своего родителя“».
АБРАЗЗА (со вздохом): «Увы, бедняга! Но, думается, он был поразительно высокомерен для того, чтобы говорить со всем Марди в таком возвышенном тоне. Не думал ли он сам, что он бог?»
БАББАЛАНЬЯ: «Он сам лучше всего знал то, что он думал; но, как и все другие, он был создан Оро для некоего особенного конца; несомненно, частично отражённого в его Козтанцах».
МЕДИА: «И теперь, когда Ломбардо давно умер – и его труд, освистанный при его жизни, пережил его, – что думает об этом наша компания? Скажите, мой господин Абразза! Баббаланья! Мохи! Иуми!»
АБРАЗЗА (поддевая свою сандалию скипетром): «Я никогда не читал его».
БАББАЛАНЬЯ (глядя вверх): «Это было написано с божественным намерением».
МОХИ (лаская свою бороду): «Я никогда не обнимался с ним в уголке и игнорировал его задолго до Марди».
ИУМИ (в размышлении): «Он укрепил моё сердце».
МЕДИА (приподнявшись): «А я прочитал его девять раз».
БАББАЛАНЬЯ (поднимаясь): «Ах, Ломбардо! Это должно удовлетворить твой дух!»
Какой-то зловещей, пустой, бессердечной, о Абразза, казалась та зелёно-жёлтая, игравшая главную злую роль корона, которую он носил.
Но зачем думать об этом? Если нам не понравилось что-то в кривом лбе или в недоверчивом тоне его голоса, всё же позвольте нам отбросить подальше подозрения и, если возможно, сделать из него, во имя богов, весёлого товарища. Несчастный! Трижды несчастен тот, кто вечно вертит один характер в своём уме и определяет излишний вес, доводы за и доводы против своего совершенства и полезности. Ведь все мы добры и плохи. Дайте мне сердце, что огромно, как вся Азия, и любого человека, кроме откровенного злодея, можно будет считать одним из лучших закалённых парней в мире.
Той же ночью в своём фамильном королевском зале нас принял король Абразза. И в самое лучшее время был устроен прекрасный ужин.
Тогда, в этом